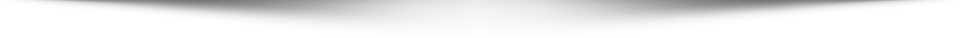Студенческие рассказы
Олег ПОЛИВОДА
Окончание. Начало в №№48, 49.
***
Все это было бы смешно, но мне-то не до смеха: я уже и дня не мог прожить без Лены Одинцовой, мне ее постоянно хотелось видеть. Но и слишком часто появляться в ее комнате я не мог – боялся показаться навязчивым.
И что же я делал? Знамо, что – сочинял стихи, чтобы хоть немного снизить градус своих страданий. Вот очередной мой опус:
Ангел мой, моя радость,
Мое ясное солнышко,
Только ты и осталась,
Остальное – до донышка.
Не дождаться расцвета,
У судьбы своей выпытал:
Чаша горькая эта,
Чаша жизни вся выпита.
Жизнь сгорела, бескрылая,
Развалилась на части,
Только ты, моя милая,
Только ты, мое счастье.
Как последняя радость,
Как звезда незакатная,
Только ты и осталась,
Только ты, ненаглядная…
Не то что показать эти стихи Лене – мне самому было стыдно их перечитывать! Какие нежности, какие сантименты! И при этом ничего оригинального: смешались в кучу Тютчев, Визбор…
Но все-таки мне эти стихи чем-то нравились. Может быть, тем, что я сумел полностью выразить свои чувства? Еще бы и избавиться от этих чувств навсегда!
В комнату к Лене я заходил редко, но, к счастью, мы ежедневно виделись в институте. И я, уже не стесняясь, на лекциях занимал место рядом с нею – если, конечно, ее подружки не успевали это сделать раньше меня.
На лекции мы с Леной не разговаривали: преподавателям почему-то не нравилось, когда студенты разговаривают. Видимо, забыли, что и сами были когда-то молодыми. Или, возможно, их личная жизнь не удалась, а потому и мешали они счастью других людей. В общем, не было у них совести!
Но, обреченные на молчание, мы могли писать записки друг другу. Тем более что и передавать их не надо: сидим-то рядом!
Вот небольшая выдержка из нашего обширного эпистолярного жанра:
Лена: «Скажи, когда ты пишешь стихи?»
Я: «Не знаю. Когда получается. Чаще всего не от меня это зависит. Иногда хочу написать, но не получается, а иногда – наоборот. Не хочу, а не могу отделаться».
Лена: «Ну, а настроение играет какую-нибудь роль? А если кто попросит написать, ты сможешь это сделать?»
Я: «Для тебя, наверное, смогу. На какую тему?»
Лена что-то начала писать, но перечеркнула так, что прочесть было невозможно. И дальше следовало:
«Знаешь, мне всегда казалось, что писать стихи невозможно по просьбе. Стихи должны рождаться сами, без заданной им темы, наконец, они должны быть криком души. Криком, который бы понял на свете один и единственный, любимый тобою человек. Поэтому заказывать тему я не имею права».
Я: «Лена, я полностью согласен с тобою! Так оно и есть. Мне тоже так кажется. Но ты заказывать имеешь право!»
Лена: «Сережа! Она слишком длинная и многоохватная, если можно так сказать, мне даже сформулировать ее трудно. Но я постараюсь высказать ее тебе».
Она должна была спросить: «А почему я имею право?» И я бы тогда ответил: так и так, люблю, дескать. А самостоятельно написать это короткое и простое слово я не рискнул. Мне это казалось слишком… слишком пошлым и банальным, что ли? Еще и этот будущий офицер, будь он неладен!
Но она не спросила. Почему? Может быть, потому, что и она сама знала об этом? Женщины ведь в таких делах куда проницательнее мужчин! Или она ждала, что я первый заговорю о любви? Но, скорее всего, она решила не затрагивать эту тему, потому что не хотела продолжения наших отношений…
Перед Новым годом мы разъезжались по домам на праздник. И Лена передала мне записку.
– Прочитаешь ровно в двенадцать часов, – сказала она. – Обещаешь?
– Обещаю!
Разумеется, мне хотелось прочитать ее тут же! Неужели она все-таки сформулировала свою тему? Но я сдержал свой порыв – я ведь слово дал!
Вечером 31 декабря мои родители ушли в гости, оставив мне и водку, и закуску. И сказали, чтобы и я кого-нибудь пригласил. Но кого мне приглашать?
Я отправился в клуб на дискотеку. Но скучно мне было там без Одинцовой! Мы с друзьями выпили за углом клуба вино – прямо из горлышка. И я вернулся домой. А ровно в двенадцать часов я развернул записку.
Лена писала:
«Сережа! Поздравляю тебя! Оставайся в Новом году таким же добрым и внимательным по отношению к людям. Делай людям добро, и они ответят тебе тем же! Никогда не смейся над недостатками людей открыто – они сами их больно переживают. Не стремись быть подобным кому-то – в тебе много прекрасных, но скрытых черт, которые надо развивать. Посмотри на дерево: есть ли хоть одна минута, в которую не произошли в нем перемены к лучшему? Останавливается хоть на миг его развитие? Так и душа человеческая… Проявляй интерес к жизни, неужели в ней так все глупо и пошло? Не обращай внимания на глупых людей – им нужен для счастья мизер, который без труда и совести можно найти. Ты же теряй все в жизни (кроме совести) и находи, и вновь теряй, и снова добивайся. Не будь спокойным в жизни – это душевная подлость, негодуй и борись за счастье, которое просто так никому не дается. Люби и будь любимым всегда! Счастья тебе, здоровья, успехов во всем. Елена».
Честно сказать, я был разочарован. Я читал Овидия и хорошо запомнил: «Право же, тот, кто от женщины ждет начального шага, слишком высоко, видать, мнит о своей красоте».
Я ничего не мнил ни о своей красоте, ни вообще о себе. Напротив, моя самооценка была слишком заниженной, и я знал об этом. Но ведь могла же Лена хотя бы намекнуть!
Или слова «люби и будь любимым всегда» и есть намек? Но на что? Уж не на то ли, что мне надо искать другую, а Лена не для меня?
Я налил себе водки. А! Нажруся и помру холостой!
***
И наградил же его Господь прозвищем: Форсайт! Как у собаки. Или кто-то из его друзей-товарищей Голсуорси сподобился прочитать? Но это вряд ли. Не тот контингент. Они и фамилию такую никогда не слышали!
Учился Форсайт на спортфаке, занимался боксом, был человеком вспыльчивым и даже придурковатым, а в пьяном виде становился просто опасным. Многие боялись связываться с ним.
Как он оказался в нашей общаге? Да мы сами же его и затащили в нее. На втором этаже была единственная мужская комната – наша. И из нее сделали своеобразный «лифт» для нелегального провоза граждан – в обход «таможни».
И если кто-то чужой хотел попасть к нам в общагу, он бросал в наше окно камешек. Мы в ответ выбрасывали из окна один конец одеяла. Человек становился на подоконник первого этажа, хватался за одеяло – и «лифт» приступал к работе. Делали мы это бескорыстно: как-то никто не додумался, что можно и деньги брать за провоз контрабанды.
Но в тот раз обошлось без камешка. Просто с третьего этажа спустился один из историков и попросил затащить в общагу Форсайта. Что мы и сделали.
– А что, мужики, красивые девчонки в вашей общаге есть? – дохнув на нас вином, спросил Форсайт.
– Да сколько угодно! Выбирай любую!
Потом уже Форсайт сам бросал камешек и оказывался в общаге. Приходил он часто. И чаще всего стал вдруг бывать в комнате, в которой жила Лена Одинцова.
Я наделся, что приходил он не к Лене, но однажды Форсайт сказал:
– Эта ваша Одинцова – классная деваха! Будет моей, помяните мое слово! Ну, я к ней!
Через несколько минут поплелся в комнату Лены и я. Лена и ее соседки пили чай. Рядом с Леной сидел Форсайт и рассказывал какой-то пошлый анекдот, сам же над ним и хохоча.
Я тоже приземлился за стол.
– Удивляюсь я вам, филологам! – сказал мне Форсайт. – Такие девушки, а вы зеваете! А вот я зевать не собираюсь! Даже на Лене жениться готов!
И он приобнял Лену за плечи. Лена насмешливо посмотрела на меня, но его руку не сбросила.
– Выйдем на пару слов, – предложил я Форсайту.
– А давай! – весело согласился он.
– Слушай, оставь ее в покое, – попросил я его в коридоре. – Тебе что, других девчонок мало? Вон их сколько!
– А мне эта нравится! – возразил он. – Если я поставил перед собой цель, то обязательно добьюсь ее!
– Так поставь перед собой другую цель! Какая тебе разница?
– Твоя девушка, что ли? – спросил он.
– Ну, моя!
– Была твоя – будет моя! – и он засмеялся своим дурацким смехом.
– Ну, и сволочь же ты! – сказал я – и моментально оказался в нокдауне.
Форсайт сам помог мне подняться, насмешливо обтряхнул мой футболку и, подтолкнув меня в спину, посоветовал:
– Иди домой!
И я послушно пошел домой. Мне было стыдно заходить в комнату Лены, смотреть ей в лицо. Я боялся увидеть презрение в ее глазах.
После этого случая Форсайт камешки в наше окно не бросал, но все равно почти каждый вечер был в нашей общаге, в комнате Лены Одинцовой. Он нашел другой «лифт»: его затаскивали через мужской туалет на третьем этаже, используя для подъема пожарный шланг.
Меня несколько успокаивало, что Лена жила в комнате не одна, а потому ничего между ними быть не могло. Но вдруг ее соседки уедут на выходные домой, а она останется?
Как-то в субботу вечером Форсайт зашел и в нашу комнату.
– Ладно, не злись! – сказал он мне. – Мир?
И протянул мне руку. И я эту руку пожал.
– Все еще страдаешь по Одинцовой? – спросил он. – Ну, тогда забирай ее, я человек щедрый! Мне она больше не нужна. Все, что нужно, я уже получил. Сначала она, конечно, ломалась, брыкалась, кусалась, а потом – ничего! Пылкой оказалась девахой! Так что можешь даже жениться на ней, не пожалеешь! А иногда и я буду ее навешать, лады? Ведь сможем мы поделить твою жену на двоих, верно?
И он, самодовольно усмехнувшись, ушел.
Как я пытался избавиться от своих страданий? Да известно, как – настрочил очередной шедевр:
Прощальный свет далекого огня.
Любовь моя, как быстро ты сгорела!
И мне теперь ни до кого нет дела,
Как никому нет дела до меня.
Наверное, это было единственное мое честное стихотворение, в котором я не солгал ни единой буквой: мне действительно ни до кого больше не было дела. Я забыл Одинцову. Я почти ее забыл. Я очень старался ее забыть.
Но как ты ее забудешь, когда уже на следующий день мы столкнулись с нею в коридоре общежития?
Лена остановилась. Остановился и я.
– Привет! – поздоровалась она.
– Привет, – вяло отозвался я.
– А я замуж выхожу! – сказала вдруг Лена.
– Что ж! Главное, чтобы между женихом и невестой не было мелких разногласий.
Лена не поняла:
– Каких мелких разногласий?
– А таких: она хочет быть на свадьбе в белом платье, а он вообще жениться не собирается.
– Бывает и так, – согласилась Лена. – А бывает и наоборот!
Что она хотела этим сказать? На что намекала?
Помолчали. Потом Лена спросила:
– Ты мне ничего не хочешь сказать?
– Ах, да! – вспомнил я. – Поздравляю!
– Ну, наконец-то! – Лена засмеялась. – А то я уже подумала: где твоя знаменитая сообразительность?
– А была ли она, эта сообразительность?
– Тебе лучше знать!
– А ты как думаешь?
– А мне все равно! Я ведь замуж выхожу…
Я вернулся в свою комнату, пытался читать, но и в книге – беспросветная тоска и невыразимая мука, зубчатые колеса, откровения человека, который медленно сходит с ума.
Я отложил книгу и повернулся лицом к стене, пытаясь заснуть. Неужели не найдется никого, кто бы потихоньку задушил меня, пока я сплю?
***
Что было потом? А потом были государственные экзамены, которые я сдал легко и весьма успешно. Было и распределение – и я, учитывая мои оценки, зашел в кабинет в первой десятке. Мог бы остаться работать в одной из городских школ – места еще были. А Лена, как я уже знал, оставалась в городе. Но какой смыл? Все равно она выйдет замуж – не за одного, так за другого, а третий в этой компании – это уже перебор.
И я решил вернуться в свой родной совхоз: в нашу школу требовался учитель русского языка и литературы. А кто кроме меня поедет в такую глухомань?
Несмотря ни на что, жизнь продолжалась. Возможно, впереди меня ждала новая встреча. И новая любовь.
Во всяком случае, я очень надеялся на это.
***
Я был счастлив сегодня во сне.
Ты, теперь уж навеки чужая,
Ты приснилась, любимая, мне,
Ты любила меня, дорогая.
Счастье! И не расскажешь сейчас!
Опьянила любовь-авантюра!
Серый омут доверчивых глаз,
Запах губ и такая фигура!
Ах, тот омут доверчивых глаз!
Мы с тобою во сне целовались,
И зеваки глазели на нас,
Ну, а мы их ничуть не стеснялись.
Так взволнованно бились сердца!
Мы, познав наконец вдохновенье,
Целовались с тобой – без конца,
Целовались – до исступленья.
Я был счастлив сегодня во сне.
В свое прошлое чудом вернулся.
Ты приснилась, любимая, мне,
Только я, к сожаленью, проснулся.
Так и спал бы, и спал до конца!
Но, презрев все надежды и страсти,
Расплылось очертанье лица,
И ушло от меня мое счастье.
Это было последнее стихотворение, которое я написал. Больше я никогда ничего не сочинял: как-то не получалось. А вместе с рифмоплетством закончились самые счастливые и самые горькие годы моей жизни.
Доживала свои последние дни и страна под названием СССР. Но тогда я еще не знал об этом…