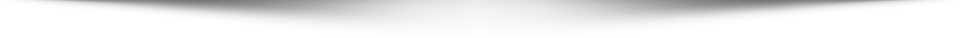Только двум швейцарским писателям была присуждена Нобелевская премия по литературе: Карлу Шпиттелеру (1919) и Герману Гессе (1946). А вот Фридрих Дюрренматт ее так и не получил, хотя был номинирован на нее как минимум 9 раз. Но, на мой взгляд, он вполне ее заслуживал.
С давних лет Дюрренматт находится в списке моих любимых писателей, в молодости я даже пытался подражать его стилю. Но так иногда бывает: через годы перечитываешь какого-то писателя и уже не испытываешь того восторга, как раньше. Недавно я перечитал прозу Дюрренматта – нет, мое мнение о писателе не изменилось. Отличная проза, сделанная ювелирно и безупречно, как швейцарские часы!
Но сначала я расскажу о Дюрренматте-драматурге, некоторые его пьесы с большим успехом шли на сценах многих театров мира.
Одна из них – «Ромул Великий», написанная в 1948 году и значительно переработанная 12 лет спустя. Сам драматург назвал ее исторически недостоверной комедией.
Действие пьесы разворачивается на вилле императора Ромула в Кампанье в течение одних суток — с утра 15-го до утра 16 марта 476 года. В Риме царит запустение; на императорской вилле всё поросло мхом, плющом и бурьяном, фасад её загажен домашней птицей. Министр финансов сбежал вместе с казной, которая, впрочем, давно пуста. Ромул добывает деньги, распродавая, помимо бюстов великих представителей Рима, листки со своего золотого лаврового венка.
Но гораздо хуже другое: Римская империя на грани краха, германцы уже у ворот Рима. Однако Ромула это, кажется, совершенно не интересует. Многие считают его жалким императором, который позорит Рим. Но на деле он оказывается не таким уж жалким и в отличие от многих «патриотов» рассуждает здраво.
Так, он заявляет: «За последние столетия мы столько раз жертвовали собой для государства, что пора бы государству пожертвовать собой для нас».
На вопрос своей дочери Реи «Разве мы не должны любить свою родину больше всего на свете?» он отвечает: «Нет, мы должны ее любить меньше, чем человека. Прежде всего родине не стоит слишком доверять. Никто не становится убийцей быстрее, чем родина».
И далее: «Когда государство начинает убивать людей, оно всегда называет себя родиной (…). Наша любовь не сделала Рим хорошим. Своими добродетелями мы откармливали изверга. Как от вина, мы хмелели от величия нашей родины, но то, что мы любили, стало горше полыни».
Выясняется, что Ромул для того и сделался императором, чтобы уничтожить это государство. Он говорит: «Я не сомневаюсь в необходимости государства вообще, я сомневаюсь лишь в необходимости нашего государства. Оно до меня уже стало великой державой, и от этого пошли массовые убийства, открытый разбой, угнетение и ограбление других народов».
«Преступную империю надо ликвидировать», – так резюмировал смысл пьесы сам драматург.
Одна из самых известных пьес Фридриха Дюрренматта – «Визит старой дамы» (1956). В разорившийся городок Гюллен приезжает его бывшая жительница, пожилая мультимиллиардерша Клара Цаханассьян. Горожане встречают ее восторженно в надежде, что она пожертвует городу хотя бы пару миллионов. Она же обещает дать миллиард: пятьсот миллионов городу и пятьсот разделить между всеми жителями. Но взамен требует, чтобы горожане убили Альфреда Илла, с которым у неё в юности был роман.
Сначала гюлленцы с негодованием отвергают это предложение, на что Клара отвечает: «Я подожду». И постепенно в городе начинают происходить перемены: гюлленцы залезают в долги, они уверены, что кто-то убьет Илла…
К слову, у Дюрренматта есть повесть «Лунное затмение» с похожим сюжетом, только в ней искушает жителей деревни мужчина: разбогатевший Уолт Лачер за убийство своего соперника предлагает односельчанам огромную сумму. И вот здесь у жителей деревни нет никаких сомнений, предложение они принимают сразу. Они не возражают даже против того, что Лачер спит со всеми девушками деревни…
Еще одна известная пьеса драматурга «Физики» (1965). Действие происходит в сумасшедшем доме, три человека считают себя физиками. Но выясняется, что никакие они не сумасшедшие: один из них, Мёбиус, действительно физик, сделавшие величайшее открытие всех времен, два других – шпионы, которые пытаются это открытие заполучить. Узнав об этом, Мёбиус сжигает свои рукописи. Он уверен: «Существует такой риск, на который человек не имеет права идти: риск гибели всего человечества». Вот только копии этих рукописей давно сделала владелица этой частной лечебницы, доктор медицины Матильда фон Цанд. И вот она действительно сумасшедшая: все эти годы ей являлся царь Соломон; он хотел, чтобы Мёбиус его именем правил на всей земле, но Мёбиус его предал, и царь повелел Матильде править миром вместо него.
Расскажу и радиопьесе «Авария». Альфредо Трапс, единственный представитель фирмы «Гефестон» в Европе, проезжает по небольшой деревушке и прикидывает, как он будет разделываться со своим деловым партнёром, который хочет вытянуть у него лишние пять процентов. Его машина глохнет недалеко от автомастерской. Трапса соглашается приютить бывший судья Верге. Вечером в этом доме собираются гости, отставные служители закона: прокурор Цон, адвокат Куммер, господин Пиле. Вместе с Трапсом они едят изысканные блюда и пьют тонкие вина, а заодно играют в интересную игру: они судят Трапса, пытаясь отыскать преступление, которое он совершил. Сам Трапс уверен, что никакого преступления не совершал, но неожиданно выясняется, что он виновен в смерти своего бывшего начальника: убил хотя и не напрямую, но косвенно. Трапс раскаивается в своем преступлении, но и гордится им, он совершил его не ради выгоды, а, как ему представлялось, чтобы стать более значительным и более глубоким человеком, достойным уважения и любви образованных, ученых людей.
Трапса приговаривают к смерти. Палач (а Трапсу сообщили, что Пиле некогда был палачом) провожает Трапса в комнату для приговоренных к смерти и по пути показывает ему орудия для пыток и гильотину. Трапс сильно напуган.
Но палач лишь укладывает Трапса в постель, и утром Трапс снова превращается в дельца-хищника.
А вот в повести с одноименным названием, написанной по сюжету радиопьесы, он кончает жизнь самоубийством, к которому его, однако, никто не принуждал. Для прокурора, судьи и адвоката это была всего лишь игра, о чем и свидетельствует последняя фраза повести, которую произнес прокурор: «Альфредо, мой добрый Альфредо! Да что же ты натворил, господи! Ведь ты испортил нам лучший вечер!»
В начале 50-х годов Дюрренматт пишет первые свои детективные романы – «Судья и его палач» и «Подозрение». В известном смысле написать их его заставила нужда.
Впрочем, в других его произведениях часто присутствует детективный сюжет – например, в повести «Поручение, или О наблюдении наблюдателя за наблюдателями» (1986). Это повесть из 24 глав, каждая из которых состоит из одного предложения. Хотя есть довольно длинные главы – на 2 книжных листа.
Сюжет в стиле Франца Кафки, нечто абсурдное и иррациональное, сочетающее в себе элементы реализма и фантастического. Может быть, именно поэтому главная героиня повести, как и во многих произведениях Кафки, не названа по имени, а обозначена одной буквой.
Следует добавить, что во многих произведениях Дюрренматта присутствуют эти кафкианские мотивы. Например, в рассказе «Туннель»: поезд вошел в бесконечный туннель, машиниста нет, а пассажиры об этом не знают и сидят в ресторане, читают, решают шахматные задачи. И лишь один пассажир и начальник поезда понимают, что состав летит к самому центру земли, в ад.
А вот блестящий роман «Правосудие», над которым Дюрренматт с перерывами работал 28 лет, по форме скорее антидетектив: убийство совершается на глазах у множества людей, убийца и не думает скрываться, его заключают под стражу, – но цепь несуразностей только начинается. Не в силах понять мотив преступления, адвокат Шпет готов даже принять версию, подсказанную ему убийцей: а что, если и убил кто-то другой? И убийцу в итоге оправдывают, тем более что пистолет найти не удалось, а свидетели путаются в показаниях.
И лишь в конце романа неожиданно открывается мотив убийства: выясняется, что жертва поплатилась за совершённое некогда преступление, а «палач» в действительности сам является жертвой. Писатель как бы подчеркивает, что в этом мире нет правды, безусловной для всех.
В 1981 году Дюрренматт завершил свой давний замысел: в 1947-м он начал писать роман «Город», но так и не закончил его. Замысел, который он разрабатывал в «Городе» и в написанном тогда же рассказе «Из записок охранника», в конце концов воплотился в одно из лучших произведений Дюрренматта-прозаика — повесть «Зимняя война в Тибете».
В этой повести – мир после ядерной катастрофы, в котором не будет ни победителей, ни побеждённых. Нет уже многих государств и целых народов; но исчезли не все, и те, что остались, продолжают воевать – непонятно с кем, непонятно за что, подчиняясь какой-то незримой Администрации…
Последним сочинением Дюрренматта стал роман «Ущелье Вверхтормашки» (1989), своеобразный итог его творчества: в романе присутствуют все излюбленные образы Дюрренматта – запутанный лабиринт, сумасшедший дом, швейцарская деревня и космическое пространство и, конечно, детективная фабула.
«Дюрренматт – мастер прозы высокого интеллектуального накала. Истоки этого ее качества не в занятиях автора философией в молодые годы. В его прозе не разворачивается диспутов, не развиваются идеи и концепции, что привычно в произведениях такого рода. Интеллектуализм Дюрренматта в другом. «Настоящий писательский труд, – сказал он однажды, – всегда есть участие в продумывании и проигрывании возможностей человека». В этой приоткрывающей правду художественной игре он достиг совершенства», – так о творчестве Фридриха Дюрренматта отозвалась доктор филологических наук Нина Павлова.